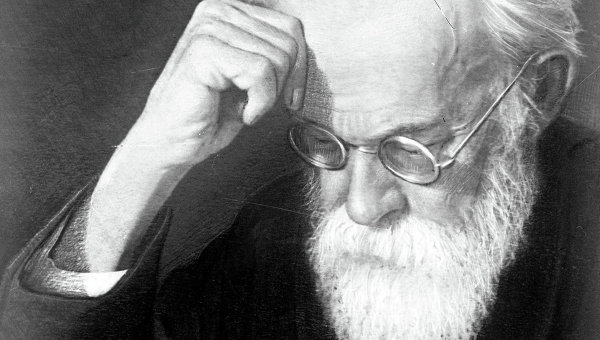
В. И. Ленин гениально предвидел еще на заре Великой Октябрьской социалистической революции, что «…инженер придет к признанию коммунизма не так, как пришел подпольщик-пропагандист, литератор, а через данные своей науки, что по-своему придет к признанию коммунизма агроном, по-своему лесовод и т. д.»
(Ленин В. И. Полн. собр. соч., т. 32, с. 120—121)
Выдержки из книги Льва Гумилевского
Глава XXXIII. Последний из братства
Нет ничего более ценного в мире и ничего, требующего большего бережения и уважения, как свободная человеческая личность.
Вернадский покинул Боровое вместе с другими академиками в конце августа 1943 года. Войдя в вагон, он устроился у окна и только на ночь поневоле отходил от него. Кинематографическая смена пейзажей, станций, селений и людей помогла смирить нетерпение, с которым все ждали Москву.
На шестой день Вернадский был дома. Он не нашел перемен в своем кабинете, не увидел следов бомбардировок на улицах, но шофер свозил Владимира Ивановича в район вокзалов и показал четырехэтажную коробку разбитого бомбой жилого дома. Не было ни окон, ни перекрытий, но в одном углу, образуемом двумя целыми стенами, остался кусок пола, на котором удержалась кровать с подушками и кружевными накидками.
В машине Владимир Иванович уже спрашивал у заместителя, можно ли вести экспериментальную работу, выходят ли журналы, где можно напечатать «Ноосферу».
— Быть может, и даже наверное, последний мой мемуар, — прибавил он спокойно.
Свежесть мысли, с которой Владимир Иванович вновь обратился к занятиям, не обманывала его. Она свидетельствовала о цефализации, о психозойской эре человечества, а вовсе не о здоровье. С каждым днем уменьшались силы, слабело зрение. Владимир Иванович еще совершал свои утренние прогулки, но уже сопровождаемый кем-нибудь из близких людей.
Летом 1944 года он прожил несколько недель в «Узком», работая над книгой, которую называл «главной своей книгой», «делом всей жизни» *. Но книга, по признанию Владимира Ивановича, «мало подвигалась вперед». В «Узком» без Натальи Егоровны работа не шла, мысли возвращались к последним дням общей жизни и к собственной судьбе.
* «Химическое строение биосферы и ее окружение». Целиком книгу В. И. Вернадский закончить не успел. Подготовленные к печати части книги издательство «Наука» выпустило в 1965 году.
Перед эвакуацией, в том же «Узком», Владимир Иванович получил известие о смерти Гревса, старейшего по братству друга. Он жил в Москве и хотел непременно приехать, чтобы повидаться, но встреча не состоялась.
Владимир Иванович остро перенес тогда эту смерть.
«Мысль об Иване все время, — писал он в дневнике, — последний и самый старый по возрасту из нашего братства ушел, полный сил умственных».
Возвратившись из «Узкого», Владимир Иванович все еще соблюдал свой порядок жизни, но в начале декабря случилось воспаление легких. Входивший тогда в употребление сульфидин спас ему жизнь, но силы возвращались медленно. Ему было запрещено выходить дальше спальной комнаты, служившей теперь и кабинетом. Посетители к нему почти не допускались.
С первых дней возвращения из Борового установился обычай обязательно встречаться с Александром Павловичем Виноградовым по субботам или воскресеньям. В воскресенье, 24 декабря, Александр Павлович, как обычно, зашел днем. Владимир Иванович в халате сидел за столом и читал газету. На первый вопрос гостя о самочувствии он отвечал:
— Чувствую себя хорошо… — Но тут же добавил: — По-стариковски хорошо
В тот день появились сообщения о зверствах фашистских войск во Львове. Владимир Иванович, прерывая разговор о своем здоровье, еще не усевшись на место, заговорил взволнованно и гневно:
— Во что обратилась Германия! Какой ужас и позор! Вы читали все это?
Александр Павлович кивнул головою, и Владимир Иванович, отталкивая от себя газету, продолжал:
— Я думал, как бы я смог после всего этого с ними встретиться? Ведь я знаю их ученых, с некоторыми у меня велась дружба не менее полувека! Вы помните, я рассказывал вам о некоторых? Вот Браун из Веймара… Что они скажут? Нет, фашисты будут наказаны, просто как преступники будут наказаны!
И, поясняя свою мысль, Владимир Иванович стал вспоминать свое выступление в Государственном совете по вопросу об отмене смертной казни:
— Я доказывал, что нет смысла в казнях, что нельзя же всех повесить, всех расстрелять! А господа члены совета смеялись и кричали: «Не запугаете!» Было и неприятно и даже страшно… И вот теперь, Александр Павлович, подумайте только, на старости лет я должен изменить свое отношение… не могу не изменить отношение к этому вопросу!
Александр Павлович попытался переменить разговор, волновавший больного, но через несколько минут Владимир Иванович опять возвратился к мучительной теме.
— Они должны, должны вернуть нам все, что разрушено… — говорил он. — И все, что было раньше забрано у нас благодаря нашей мягкости, нашему германофильству… Вы помните, я рассказывал вам о коллекции Грота? У него оказались лучшие образцы русских минералов! Царский родственник герцог Лейхтенбергский увез в свой замок в Германию коллекцию минералов из лучших экземпляров, скупленных на Урале, подаренных ему Кокшаровым… Кокшаров выбирал лучшие из лучших, из них отбирал лучшие Лейхтенбергский, а Грот все это купил за гроши у наследников Лейхтенбергского…
И в этом направлении разговор не мог не волновать старого русского ученого. Гость напомнил о приближении наших войск к Будапешту, где Вернадский бывал и также имел ученых друзей.
— Да, я хорошо знал там профессора Кардоша, Садецкого-Кардоша, — светлея лицом, отозвался Владимир Иванович. — Вот кстати, Александр Павлович, прочтите, пожалуйста, из Поггендорфа, что о нем там сказано…
Словарем Поггендорфа Владимир Иванович пользовался постоянно для справок и держал его под рукой. Александр Павлович нашел заметку о Кардоше и прочел вслух.
— Да, он был очень светским, но очень любезным человеком, — обращаясь к воспоминаниям, заговорил Владимир Иванович. — Я встретился с ним в Париже. Он работал там, как и я, в лабораториях. Он был интересный собеседник. Наталья Егоровна и я любили с ним беседовать, засиживаясь на парижских бульварах… Вы знаете, он познакомил меня однажды тут же на бульваре с молодой Виардо. Она представилась мне, помню, как дочь Тургенева…
На мгновение Владимир Иванович, задумавшись, умолк, потом со вздохом сказал:
— Бедный Гревс… написал целую книгу, доказывая, что эта Виардо не была и не могла быть дочерью Тургенева!
— А самоё Виардо вы не видели никогда? — спросил Александр Павлович…
— Только раз на сцене… С Тургеневым я встречался, даже был с ним знаком… Я люблю его и перечитываю, хотя это, конечно, не Толстой, не «Война и мир», да он, впрочем, и сам это понимал!
Будущее народов, будущее России, будущее советской науки постоянно владело мыслями Вернадского. Он часто говорил о том что по окончании войны моральное значение в мировой среде русских ученых должно сильно подняться и надо считаться с огромным ростом русской науки в ближайшем будущем. «Мировое значение русской науки, русского языка в мировой науке будет очень велико, ранее небывалое», — писал он в дневнике месяц назад. А до того он подал записку в президиум Академии наук о работе «Международной книги», в которой писал:
«После заключения мира мы должны знать обо всем, что совершается в научной области, так же быстро, как это делается в других государствах. Нельзя узнавать о ходе мирового научного движения через несколько лет. Мы должны знать его через несколько дней!»
Это было последнее организационное мероприятие старого ученого. Оно привело к учреждению Института информации Академии наук СССР, получившего ныне огромное значение. Разговор перешел на прошлую встречу. Неделю назад шла речь о возможном превращении одного из изотопов калия в изотоп аргона. Владимир Иванович предполагал, что такой процесс мог происходить в природных условиях, и обещал найти номер все того же английского журнала «Природа» для какой-то ссылки.
— Нужно обязательно спектрографическим путем изучить изотопный состав аргона из газов калийных месторождений, — наказывал Владимир Иванович. — Вообще, как мы уже с вами намечали, надо изучить глубже газы калийных месторождений…
Началось обсуждение возможности поставить такого рода опыты в ближайшее время. Незаметно разговор стал перебрасываться с одной проблемы на другую из тех, что составляли и смысл и неразрешимую трагедию сознательной жизни ученого, — о геологическом времени, об устройстве космоса, об открывшейся разнице в возрасте Земли и метеоритов, о вечности жизни, о диссимметрии и, наконец, о самом главном.
— Геологическая история Земли не имеет ни начала, ни конца, — дважды процитировал Владимир Иванович положение, названное им принципом Геттона.
Александру Павловичу был не ясен глубокий смысл, который Вернадский вкладывал в этот принцип, и он возразил:
— Сколько я мог убедиться, читая Геттона, он говорил, что не видит в истории Земли ни начала, ни конца, а не то что их нет… Я этот принцип могу принять только на веру: в нем больше какого-то религиозного смысла, чем научных фактов!
— Вот именно, — обрадованно воскликнул Вернадский, — вот именно! В религии действительно есть начало и конец. Вот эти-то религиозные представления люди и перенесли в научные понятия! А в пределах геологического времени конца и начала нет!
Прасковья Кирилловна давно уже зажгла свет. Нетронутые стаканы чая, остывая, подернулись коричневой пленкой. Александр Павлович стал прощаться, чтобы дать покой больному.
— Вы не беспокойтесь обо мне, вы скажите, как ваше здоровье, дорогой Александр Павлович, — говорил Владимир Иванович и, когда тот ответил, что все хорошо, протянул руку: — Ну, до свиданья!
По долгой привычке хозяин направился было к двери проводить гостя, но тот решительно запротестовал. Владимир Иванович покорился, но остался на ногах. В дверях Александр Павлович еще раз оглянулся на учителя. Провожая взглядом ученика и друга, он стоял в своей маленькой комнате, среди книг и рукописей, освещенный ярким верхним светом, и было ясно, что старый гениальный ученый, всю жизнь окруженный товарищами, друзьями и учениками, всегда и везде был наедине с самим собой.
Утром Владимир Иванович позвал Прасковью Кирилловну и спросил, готов ли у нее кофе. Когда она вернулась с салфеткой, чтобы застелить для завтрака край стола, Владимир Иванович быстро встал, давая ей место, и в тот же миг пошатнулся и упал. В открытых глазах его изобразился ужас: он не мог говорить, язык не действовал.
Всю жизнь Владимир Иванович боялся именно потери речи при кровоизлиянии в мозг, как было у отца. Он быстро потерял остатки сознания и умер, не приходя в себя, через тридцать дней, 6 января 1945 года.

Оставить комментарий
Для отправки комментария вам необходимо авторизоваться.